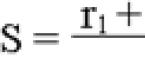В «Костре» работал. В этом тусклом месте,
вдали от гонки и передовиц,
я встретил сто, а может быть, и двести
прозрачных юношей, невзрачнейших девиц.
Простуженно протискиваясь в дверь,
они, не без нахального кокетства,
мне говорили: «Вот вам пара текстов».
Я в их глазах редактор был и зверь.
Прикрытые немыслимым рваньём,
они о тексте, как учил их Лотман,
судили как о чем-то очень плотном,
как о бетоне с арматурой в нём.
Всё это были рыбки на меху
бессмыслицы, помноженной на вялость,
но мне порою эту чепуху
и вправду напечатать удавалось.
Стоял мороз. В Таврическом саду
закат был жёлт, и снег под ним был розов.
О чем они болтали на ходу,
подслушивал недремлющий Морозов,
тот самый, Павлик, сотворивший зло.
С фанерного портрета пионера
от холода оттрескалась фанера,
но было им тепло.
И время шло.
И подходило первое число.
И секретарь выписывал червонец.
И время шло, ни с кем не церемонясь,
и всех оно по кочкам разнесло.
Те в лагерном бараке чифирят,
те в Бронксе с тараканами воюют,
те в психбольнице кычат и кукуют,
и с обшлага сгоняют чертенят.
Столыпина жаль, говоря исторически
и просто так, житейским манером,
но жаль и Богрова с его истерически
тявкающим револьвером.
Жалко жандарма. Жалко по Лысой
горе гуляющую ворону.
Жалко доставленного из полиции
с переизбытком тестостерону
душегуба, с утра хватившего водки -
но не берёт, да ну её к псу!
И он снимает с бледного Мордки
стекляшки, торчавшие на носу.
Палач проявляет жалость к еврею -
нехай жиду кажется, что всё во сне.
Да и неловко вешать за шею
человека в пенсне.
(У Пастернака)
Всё, что я помню за этой длиной,
чуть не ломает на чудной картине,
где громоздится льдина на льдине,
этой любимой картины печатной,
где над трёхтрубником стелется чадный
дым и рассеивается перед концом;
то ль навсегда он себя погрузил
в бездну, то ль вынырнет, в скалы не врежась,
так в разговоре мелькали норвежец,
клапаны смысла и связи расплавить;
что там моя полудетская память!
где там запомнить! как там понять!
Всё, что я помню, - день ледяной,
рой оправданий, преданий, страданий,
день, меня смявший и сделавший мной.
4, rue Regnard
Здрасте, стены, впитавшие стоны страсти,
кашель, русское «бля» из прокуренной пасти!
Посидим рядком
с этим милым жильём, года два неметённым,
где всё, кажется, сглажено монотонным
паровым катком.
Человек, поживший в такой квартире,
из нее выходит на все четыре,
не глядит назад,
но потом сворачивает налево,
поелику велела одна королева,
в Люксембургский сад.
А пока в Одеоне Пьеро с Труффальдино
чепушат, запылённая зеркала льдина
отражает сблизи
круглобокий диван, - приподнявшись на ластах,
он чего-то вычитывает в щелястых
Здрасте, строфы ставень, сведённые вместе,
параллельная светопись с солнцем в подтексте,
в ней пылинок дрожь.
Как им вольно вращаться, взлетать, кувыркаться!
Но потом начинает смеркаться, смеркаться,
и уже не прочтёшь.
В сенях помойная застыла лужица. В слюду стучится снегопад.
Корова телится, ребёнок серится, портянки сушатся, щи кипят.
Вот этой жизнью, вот этим способом существования белковых тел
живём и радуемся, что Господом ниспослан нам живой удел.
Над миром чёрное торчит поветрие, гуляет белая галиматья.
В снежинках чудная симметрия небытия и бытия.
To Columbo
Научи меня жить напоследок, я сам научиться не мог.
Научи, как стать меньше себя, в тугой уплотнившись клубок,
как стать больше себя, растянувшись за полковра.
Мяумуары читаю твои, мемурра
о презрении к тварям, живущим посредством пера,
но приемлемым на зубок.
Прогуляйся по клавишам, полосатый хвостище таща,
ибо лучше всего, что пишу я, твоё шшшшшшщщщщщщ.
Ляг на книгу мою - не последует брысь:
ты лиричней, чем Анна, Марина, Велимир, Иосиф, Борис.
Что у них на бумаге - у тебя на роду.
Спой мне песню свою с головой Мандельштама во рту.
Больше нет у меня ничего, чтобы страх превозмочь
в час, когда тебя заполночь нет и ощерилась ночь.
«Всё впереди!»
Сексологи пошли по Руси, сексологи!
Где прежде бродили по тропам сексоты,
сексолог, сексолог идёт!
Он в самые сладкие русские соты
залезет и вылижет мёд.
В избе неприютно, на улице грязно,
подохли в пруду караси,
все бабы сбесились - желают оргазма,
а где его взять на Руси!
«День поэзии 1957»
Убожество и чёрная дыра -
какой? - четвертой, что ли, пятилетки.
В тот день в наш город привезли объедки
поэзии с московского двора.
Вот, дескать, жрите. Только мы из клетки
обыденности вышли не вчера...
На пустыре сосна, под ней нора,
тоскующий глухарь на нижней ветке...
В наш неокубо- москвичам слабо,
в сей - футуризм, где Рейн ревет: Рембо! -
где Сфинкс молчит, но в ней мерцает кварц.
В глазах от иероглифов рябо
Ерёминских, и Бродского ребро
преображается в Елену Шварц.
Айный отель: приглашение
Евгению Рейну, с любовью
Ночью с улицы в галстуке, шляпе, плаще.
На кровати в гостинице навзничь - галстук, шляпа, ботинки.
В ожиданье условного стука, звонка и вообще
от блондинки, брюнетки... нет, только блондинки.
Всё внушает тревогу, подозрение, жуть -
телефон, занавеска оконная, ручка дверная.
Всё равно нет иного черно-белого рая,
и, конечно, удастся туда убежать, ускользнуть, улизнуть.
Шевелящимся конусом света экран полоща,
увернёмся, обманем погоню, с подножки соскочим
под прикрытием галстука, шляпы, плаща,
под ритмичные всплески неона в стакане со скотчем.
Дома дым коромыслом - комоды менты потрошат,
мемуарная сволочь шипит друг на дружку: не трогай!
Тихо в тайном отеле, только тонкие стены дрожат
от соседства с подземкой, надземкой, железной дорогой.
Без названия
Родной мой город безымян,
всегда висит над ним туман
в цвет молока снятого.
Назвать стесняются уста
трижды предавшего Христа
и всё-таки святого.
Как называется страна?
Дались вам эти имена!
Я из страны, товарищ,
где нет дорог, ведущих в Рим,
где в небе дым нерастворим
и где снежок нетающ.
В клинике
Мне доктор что-то бормотал про почку
и прятал взгляд. Мне было жаль врача.
Я думал: жизнь прорвала оболочку
и потекла, легка и горяча.
Диплом на стенке. Врач. Его неловкость.
Косой рецепт строчащая рука.
A я дивился: о, какая лёгкость,
как оказалась эта весть легка!
Где демоны, что век за мной гонялись?
Я новым, лёгким воздухом дышу.
Сейчас пойду, и кровь сдам на анализ,
и эти строчки кровью подпишу.
В Помпее
Во прахе и крови скользят его колена.
Лермонтов
Растут на стадионе маки,
огромные, как пасть собаки,
оскаленная со зла.
Вот как Помпея проросла!
По макам ветер пробегает,
а страх мне спину прогибает,
и, первого святого съев,
я думаю: зачем я Лев?
Я озираюсь воровато,
но мне с арены нет возврата,
и вызывает мой испуг
злорадство в римском господине
с дурманом чёрным в середине,
с кровавым венчиком вокруг.
Взять бы по-русски - в грязь да обновою,
плюхнуться в мрак ледяной!
Всё просадить за восьмёрку бубновую
окон веранды одной.
Когти рвануть из концлагеря времени,
брюхом и мордой к земле,
да ледорубом бы врезать по темени
тёзке в зеркальном стекле.
Ночь догоняет меня на бульдозере.
Карта идёт не ко мне.
Гаснут на озере красные козыри,
золото меркнет в окне.
Включил TB - взрывают домик.
Раскрылся сразу он, как томик,
и пламя бедную тетрадь
пошло терзать.
Оно с проворностью куницы
вмиг обежало все страницы,
хватало пищу со стола
и раскаляло зеркала.
Какая даль в них отражалась?
Какое горе обнажалось?
Какую жизнь сожрала гарь -
роман? стихи? словарь? букварь?
Какой был алфавит в рассказе -
наш? узелки арабской вязи?
иврит? латинская печать?
Когда горит, не разобрать.
Возвращение с Сахалина
Мне 22. Сугроб до крыши.
«Рагу с козлятины» в меню.
Рабкор, страдающий от грыжи,
забывший застегнуть мотню,
ко мне стучит сто раз на дню.
Он говорит: «На Мехзаводе
станки захламили хоздвор.
Станки нуждаются в заботе.
Здесь нужен крупный разговор».
Он - раб. В глазах его укор.
Потом придет фиксатый Вова
с бутылью «Спирта питьевого»,
срок за убийство, щас - прораб.
Ему не хочется про баб,
он все твердит: «Я - раб, ты - раб».
Зек философствует, у зека
сверкает зуб, слезится веко.
Мотает лысой головой -
спирт душу жжёт, хоть питьевой.
Слова напоминают вой.
И этот вой, и вой турбинный
перекрывали выкрик «Стой!
Кто идёт?», когда мы с Ниной,
забившись в ТУ полупустой,
повисли над одной шестой.
Хоздвор Евразии. Текучки
мазутных рек и лысых льдов.
То там, то сям примёрзли кучки
индустриальных городов.
Колючка в несколько рядов.
О, как мы дивно удирали!
Как удалялись Норд и Ост!
Мороз потрескивал в дюрале.
Пушился сзади белый хвост.
Свобода. Холод. Близость звёзд.
Всякое бывает
Бывает, мужиков в контору так набьётся -
светлее солнышка свеченье потных рож.
Бывает, человек сызранку так напьётся,
что всё ему вопит: «Ты на кого похож?»
«Ты на кого похож?» - по-бабьи взвизги хора
пеструх-коров, дворов и курочек-рябух.
«Я на кого похож?» - спросил он у забора.
Забор сказал, что мог, при помощи трёх букв.
Где воздух «розоват от черепицы»,
где львы крылаты, между тем как птицы
предпочитают по брусчатке пьяццы,
как немцы иль японцы, выступать;
где кошки могут плавать, стены плакать,
где солнце, золота с утра наляпать
успев и окунув в лагуну локоть
луча, решает, что пора купать, -
ты там застрял, остался, растворился,
перед кофейней в кресле развалился
и затянулся, замер, раздвоился,
уплыл колечком дыма, и - вообще
поди поймай, когда ты там повсюду -
то звонко тронешь чайную посуду
церквей, то ветром пробежишь по саду,
невозвращенец, человек в плаще,
зека в побеге, выход в зазеркалье
нашел - пускай хватаются за колья, -
исчез на перекрестке параллелей,
не оставляя на воде следа,
там обернулся ты буксиром утлым,
туч перламутром над каналом мутным,
кофейным запахом воскресным утром,
где воскресенье завтра и всегда.
Город живёт, разрастается, строится.
Здесь было небо, а нынче кирпич и стекло.
Знать, и тебе, здоровому, не поздоровится,
хватишься времени - нет его, истекло.
Выйдешь под утро в ванную с мутными зенками,
кран повернёшь - оттуда хлынет поток
воплей, проклятий, угроз, а в зеркале
страшно оскалится огненноокий пророк.
Железо, трава
Во травы наросло-то, пока я спал!
Вон куда отогнали, пока я пригрелся, -
пахнет тёплым мазутом от растресканных шпал,
и не видно в бурьяне ни стрелки, ни рельса.
Что же делать впросонках? Хватить ерша,
смеси мертвой воды и воды из дурного копытца?
В тупике эволюции паровоз не свистит, и ржа
продолжает ползти, пыль продолжает копиться.
Только чу! - покачнулось чугунной цепи звено,
хрустнув грязным стеклом, чем-то ржавым звякнув железно,
сотрясая депо, что-то вылезло из него,
огляделось вокруг и, подумав, обратно залезло.
Забытые деревни
В российских чащобах им нету числа,
всё только пути не найдём -
мосты обвалились, метель занесла,
тропу завалил бурелом.
Там пашут в апреле, там в августе жнут,
там в шапке не сядут за стол,
спокойно второго пришествия ждут,
поклонятся, кто б ни пришёл -
урядник на тройке, архангел с трубой,
прохожий в немецком пальто.
Там лечат болезни водой и травой.
Там не помирает никто.
Их на зиму в сон погружает Господь,
в снега укрывает до стрех -
ни прорубь поправить, ни дров поколоть,
ни санок, ни игр, ни потех.
Покой на полатях вкушают тела,
а души - весёлые сны.
В овчинах запуталось столько тепла,
что хватит до самой весны.
Звезда взойдёт над зданьем станции,
и радио в окне сельпо
программу по заявкам с танцами
прервёт растерянно и, по-
медлив малость, как замолится
о пастухах, волхвах, царях,
о коммунистах с комсомольцами,
о сброде пьяниц и нерях.
Слепцы, пророки трепотливые,
отцы, привыкшие к кресту,
как эти строки терпеливые,
бредут по белому листу.
Где розовою промокашкою
вполнеба запад возникал,
туда за их походкой тяжкою
Обводный тянется канал.
Закатом наскоро промокнуты,
слова идут к себе домой
и открывают двери в комнаты,
давно покинутые мной.
Земную жизнь пройдя до середины,
я был доставлен в длинный коридор.
В нелепом платье бледные мужчины
вели какой-то смутный разговор.
Стучали кости. Испускались газы,
и в воздухе подвешенный топор
угрюмо обрубал слова и фразы:
все ху да ху, да ё маё, да бля -
печальны были грешников рассказы.
Один заметил, что за три рубля
сегодня ночью он кому-то вдует,
но некто, грудь мохнатую скобля,
а третий, с искривлённой головой,
воскликнул, чтоб окно закрыли - дует.
В ответ ему раздался гнусный вой,
развратный, негодующий, унылый,
но в грязных робах тут вошёл конвой,
и я был унесён нечистой силой.
Наморща лобик, я лежал в углу.
Несло мочой, карболкой и могилой.
В меня втыкали толстую иглу
меня поили горечью полынной.
К холодному железному столу
потом меня доской прижали длинной,
и было мне дышать запрещено
во мраке этой комнаты пустынной.
В ответ визгливый: «Любоваться нечем».
А тот: «Возьми и сердце заодно».
А та: «Сейчас, сперва закончу печень».
И мой фосфоресцировал скелет,
обломан, обезличен, обесцвечен,
корявый остов тридцати трёх лет.
И, наконец, остановка «Кладбище».
Нищий, надувшийся, словно клопище,
в куртке-москвичке сидит у ворот.
Денег даю ему - он не берёт.
Как же, твержу, мне поставлен в аллейке
памятник в виде стола и скамейки,
с кружкой, поллитрой, вкрутую яйцом,
следом за дедом моим и отцом.
Слушай, мы оба с тобой обнищали,
оба вернуться сюда обещали,
ты уж по списку проверь, я же ваш,
ты уж, пожалуйста, ты уж уважь.
Нет, говорит, тебе места в аллейке,
нету оградки, бетонной бадейки,
фото в овале, сирени куста,
столбика нету и нету креста.
Словно я Мистер какой-нибудь Твистер,
не подпускает на пушечный выстрел,
под козырёк, издеваясь, берёт,
что ни даю - ничего не берёт.
Из Бунина
Прилетят грачи, улетят грачи,
ну а крест чугунный торчи, торчи,
предъявляй сей местности пасмурной
тихий свет фотографии паспортной.
Каждый легкий вздох - это легкий грех.
Наступает ночь - одна на всех.
Гладит мягкая звёздная лапища
бездыханную землю кладбища.
Из Фета
Перекресток, где ракитка
стынет в снежном сне,
да простая, как открытка,
видимость в окне:
праздник - полкило сарделек,
на бутылке щит,
и мычит чего-то телек,
видик верещит.
После стольких лет утруски
что ответишь тут
на простой вопрос по-русски:
как тебя зовут?
Или ещё такой сюжет:
я есть, но в то же время нет,
здоровья нет, и нет монет,
покоя нет, и воли нет,
нет сердца - есть неровный стук
да эти шалости пером,
Когда они накатят вдруг,
как на пустой квартал погром,
и, как еврейка казаку,
мозг отдаётся языку,
совокупленье этих двух
взвивает звуков лёгкий пух,
и бьются язычки огня
вокруг отсутствия меня.
Иуда задумался, пряча
сребреники в суму,
холодный расчёт и удача
опять подыграли ему.
Срубить колоссальные бабки
и прежде случалось подчас,
но что-то становятся зябки
апрельские ночи у нас,
но падалью пахнут низины,
но колет под левым ребром,
но в роще трясутся осины,
все тридцать, своим серебром.
И понял неумный Иуда,
что нет ему в мире угла,
во всей Иудее уюта
и в целой Вселенной тепла.
Что сквозит и тайно светит...
Как, зачем в эти игры ввязался,
в это поле-не-перекати?
Я не знаю, откуда я взялся,
помню правило: взялся - ходи.
Помню родину, русского Бога,
уголок на подгнившем кресте
и какая сквозит безнадёга
в рабской, смирной Его красоте.
Коринфских колонн Петербурга
причёски размякли от щёлока,
сплетаются с дымным, дремотным,
длинным, косым дождём.
Как под ножом хирурга
от ошибки анестезиолога,
под капитальным ремонтом
умирает дом.
Русского неба бурёнка
опять ни мычит, ни телится,
но красным-красны и массовы
праздники большевиков.
Идет на парад оборонка.
Грохочут братья камазовы,
и по-за ними стелется
выхлопной смердяков.
Моя книга
Ни Риму, ни миру, ни веку,
ни в полный внимания зал -
в Летейскую библиотеку,
как злобно Набоков сказал.
В студёную зимнюю пору
(«однажды» - за гранью строки)
гляжу, поднимается в гору
(спускается к брегу реки)
усталая жизни телега,
наполненный хворостью воз.
Летейская библиотека,
готовься к приему всерьёз.
Я долго надсаживал глотку,
и вот мне награда за труд:
не бросят в Харонову лодку,
на книжную полку воткнут.
На кладбище, где мы с тобой валялись,
разглядывая, как из ничего
полуденные облака ваялись,
тяжеловесно, пышно, кучево,
там жил какой-то звук, лишённый тела,
то ль музыка, то ль птичье пить-пить-пить,
и в воздухе дрожала и блестела
почти несуществующая нить.
Что это было? Шёпот бересклета?
Или шуршало меж еловых лап
индейское, вернее бабье, лето?
А то ли только лепет этих баб -
той с мерой, той прядущей, но не ткущей,
той с ножницами? То ли болтовня
реки Коннектикут, в Атлантику текущей,
и вздох травы: «Не забывай меня».
На Рождество
Я лягу, взгляд расфокусирую,
звезду в окошке раздвою
и вдруг увижу местность сирую,
сырую родину свою.
Во власти оптика-любителя
не только что раздвои и - сдвой,
а сдвой Сатурна и Юпитера
чреват Рождественской звездой.
Вослед за этой, быстро вытекшей
и высохшей, ещё скорей
всходили над Волховом и Вытегрой
звезда волхвов, звезда царей.
На смерть Ю.Л. Михайлова
Мой стих искал тебя.
Вяземский
Не гладкие чётки, не писаный лик,
хватает на сердце зарубок.
Весь век свой под Богом ты был как бы бык.
Век краток. Бог крепок. Бык хрупок.
В шампанской стране меня слух поджидал.
Вот где диалог наш надломан:
то Вяземский ввяжется, то Мандельштам,
то глупый «смерть-Реймс» палиндромон.
«Что ж делать - Бог лучших берёт», - говорят.
Берёт? Как письмо иль монету?
То сильный, то слабый, ты был мне как брат.
Бог милостив. Брата вот нету.
Девятый уж день по тебе я молчу,
молюсь, чтоб тебя не забыли,
светящейся Розе, цветному Лучу,
крутящейся солнечной Пыли.
Вы русский? Нет, я вирус СПИДа,
как чашка жизнь моя разбита,
я пьянь на выходных ролях,
я просто вырос в тех краях.
Вы Лосев? Нет, скорее Лифшиц,
мудак, влюблявшийся в отличниц,
в очаровательных зануд
с чернильным пятнышком вот тут.
Вы человек? Нет, я осколок,
голландской печки черепок -
запруда, мельница, просёлок...
Один день Льва Владимировича
Перемещён из Северной и Новой
Пальмиры и Голландии, живу
здесь нелюдимо в Северной и Новой
Америке и Англии. Жую
из тостера изъятый хлеб изгнанья
и ежеутренне взбираюсь по крутым
ступеням белокаменного зданья,
где пробавляюсь языком родным.
Развешиваю уши. Каждый звук
калечит мой язык или позорит.
Когда состарюсь, я на старый юг
уеду, если пенсия позволит.
У моря над тарелкой макарон
дней скоротать остаток по-латински,
слезою увлажняя окоём, как Бродский,
как, скорее, Баратынский.
Когда последний покидал Марсель,
как пар пыхтел и как пилась марсала,
как провожала пылкая мамзель,
как мысль плясала, как перо писало,
как в стих вливался моря мерный шум,
как в нём синела дальняя дорога,
как не входило в восхищённый ум,
как оставалось жить уже немного…
Однако что зевать по сторонам.
Передо мною сочинений горка.
«Тургенев любит написать роман
Отцы с Ребёнками». Отлично, Джо, пятёрка!
Тургенев любит поглядеть в окно.
Увидеть нив зелёное рядно.
Рысистый бег лошадки тонконогой.
Горячей пыли плёнку над дорогой.
Ездок устал, в кабак он завернёт.
Не евши, опрокинет там косушку...
И я в окно - а за окном Вермонт,
соседний штат, закрытый на ремонт,
на долгую весеннюю просушку.
Среди покрытых влагою холмов
каких не понапрятано домов,
какую не увидишь там обитель:
в одной укрылся нелюдимый дед,
он в бороду толстовскую одет
и в сталинский полувоенный китель.
В другой живёт поближе к небесам
кто, словеса плетя витиевато,
с глубоким пониманьем описал
лирическую жизнь дегенерата.
Задавши студиозусам урок,
берём газету (глупая привычка).
Ага, стишки. Конечно, «уголок»,
«колонка» или, сю-сю-сю, «страничка».
По Сеньке шапка. Сенькин перепрыг
из комсомольцев прямо в богомольцы
свершён. Чем нынче потчуют нас в рыг-
аловке? Угодно ль гонобольцы?
Всё постненькое, Божий рабы?
Дурные рифмы. Краденые шутки.
Накушались. Спасибо. Как бобы
шевелятся холодные в желудке.
Смеркается. Пора домой. Журнал
московский, что ли, взять как веронал.
Там олух размечтался о былом,
когда ходили наши напролом
и сокрушали нечисть помелом,
а эмигранта отдалённый предок
деревню одарял полуведром.
Крути, как хочешь, русский палиндром
барин и раб, читай хоть так, хоть эдак,
не может раб существовать без бар.
Сегодня стороной обходим бар.
Там хорошо. Там стелется, слоист,
сигарный дым. Но там сидит славист.
Опасно. До того опять допьюсь,
что перед ним начну метать свой бисер
и от коллеги я опять добьюсь,
чтоб он опять в ответ мне пошлость....:
«Ирония не нужно казаку,
you sure could use some domestication* ,
недаром в вашем русском языку
такого слова нет - sophistication»** .
Есть слово «истина». Есть слово «воля».
Есть из трёх букв - «уют». И «хамство» есть.
Как хорошо в ночи без алкоголя
слова, что невозможно перевесть,
бредя, пространству бормотать пустому.
На слове «падло» мы подходим к дому.
Дверь за собой плотней прикрыть, дабы
в дом не прокрались духи перекрёстков.
В разношенные шлёпанцы стопы
вставляй, поэт, пять скрюченных отростков.
Ещё проверь цепочку на двери.
Приветом обменяйся с Пенелопой.
Вздохни. В глубины логова прошлёпай.
И свет включи. И вздрогни. И замри
А это что ещё такое?
А это - зеркало, такое стеклецо,
чтоб увидать со щёткой за щекою
судьбы перемещённое лицо.
* «you sure could use some domestication», - «уж вам бы пошло на пользу малость дрессировки» (англ.)
** sophistication - очень приблизительно: «изысканность» (англ.)
Отказ от приглашения
На склоне дней мне пишется трудней.
Всё реже звук, зато всё твёрже мера.
И не пристало мне на склоне дней
собою подпирать милицанера.
Не для того я побывал в аду,
над ремеслом спины не разгибая,
чтоб увидать с собой в одном ряду
косноязычащего раздолбая.
Вы что, какой там, к черту, фестиваль!
Нас в русском языке от cилы десять.
Какое дело нам, что станет шваль
кривлять язык и сглупу куролесить.
Памяти Володи Уфлянда
Ты умер, а мы ишачим,
но, впрочем, дело за малым.
Ты спал под живым кошачьим
мурлыкающим покрывалом.
Всё, что намурлыкано за ночь,
ты днём заносил на бумагу.
А низколобая сволочь
уже покидала общагу.
Ты легко раздаривал милость
растениям, детям, собакам.
А сволочь уже притаилась
в подъезде за мусорным баком.
Не слишкoм поэту живётся
в краю кистеней и заточек.
А кошкам не спится, неймётся,
всё ждут, когда же вернётся
живого тепла источник.
Поскольку пёс устройством прост:
болтаются язык да хвост,
сравню себя
я с этой шерстью небольшой,
с пованивающей паршой.
Скуля, сипя,
мой мокрый орган без костей
для перемолки новостей,
валяй, мели!
Обрубок страха и тоски,
служи за черствые куски,
виляй, моли!
По Баратынскому
Вёрсты, белая стая да чёрный бокал,
аониды да жёлтая кофта.
Если правду сказать, от стихов я устал,
может, больше не надо стихов-то?
Крылышкуя, кощунствуя, рукосуя,
наживаясь на нашем несчастье,
деконструкторы в масках Шиша и Псоя
разбирают стихи на запчасти
(и последний поэт, наблюдая орду,
под поэзией русской проводит черту
ржавой бритвой на тонком запястье).
Под старость забывают имена,
стараясь в разговоре, как на мины,
не наступать на имя, и нема
вселенная, где бродят анонимы.
Мир не безумен - просто безымян,
как этот город N, где Ваш покорный
NN глядит в квадрат окошка чёрный
и видит: поднимается туман.
Покуда Мельпомена и Евтерпа
настраивали дудочки свои,
и дирижёр выныривал, как нерпа,
из светлой оркестровой полыньи,
и дрейфовал на сцене, как на льдине,
пингвином принаряженный солист,
и бегала старушка-капельдинер
с листовками, как старый нигилист,
улавливая ухом тру-ля-ля,
я в то же время погружался взглядом
в мерцающую груду хрусталя,
нависшую застывшим водопадом:
там умирал последний огонёк,
и я его спасти уже не мог.
На сцене барин корчил мужика,
тряслась кулиса, лампочка мигала,
и музыка, как будто мы - зека,
командовала нами, помыкала,
на сцене дама руки изломала,
она в ушах производила звон,
она производила в душах шмон
и острые предметы изымала.
Послы, министры, генералитет
застыли в ложах. Смолкли разговоры.
Буфетчица читала «Алитет
уходит в горы». Снег. Уходит в горы.
Салфетка. Глетчер. Мраморный буфет.
Хрусталь - фужеры. Снежные заторы.
И льдинами украшенных конфет
с медведями пред ней лежали горы.
Как я любил холодные просторы
пустых фойе в начале января,
когда ревет сопрано: «Я твоя!» -
и солнце гладит бархатные шторы.
Там, за окном, в Михайловском саду
лишь снегири в суворовских мундирах,
два льва при них гуляют в командирах
с нашлепкой снега - здесь и на заду,
Карелия и Баренцева лужа,
откуда к нам приходит эта стужа,
что нашего основа естества.
Всё, как задумал медный наш творец, -
у нас чем холоднее, тем интимней,
когда растаял Ледяной дворец,
мы навсегда другой воздвигли - Зимний.
И всё же, откровенно говоря,
от оперного мерного прибоя
мне кажется порою с перепоя -
нужны России тёплые моря!
«Понимаю - ярмо, голодуха,
тыщу лет демократии нет,
но худого российского духа
не терплю», - говорил мне поэт.
«Эти дождички, эти берёзы,
эти охи по части могил», -
и поэт с выраженьем угрозы
свои тонкие губы кривил.
И еще он сказал, распаляясь:
«Не люблю этих пьяных ночей,
покаянную искренность пьяниц,
достоевский надрыв стукачей,
эту водочку, эти грибочки,
этих девочек, эти грешки
и под утро заместо примочки
водянистые Блока стишки;
наших бардов картонные копья
и актёрскую их хрипоту,
наших ямбов пустых плоскостопье
и хореев худых хромоту;
оскорбительны наши святыни,
все рассчитаны на дурака,
и живительной чистой латыни
мимо нас протекала река.
Вот уж правда - страна негодяев:
и клозета приличного нет», -
сумасшедший, почти как Чаадаев,
так внезапно закончил поэт.
Но гибчайшею русскою речью
что-то главное он огибал
и глядел словно прямо в заречье,
где архангел с трубой погибал.
Последняя в этом печальном году
попалась мыслишка, как мышка коту...
Обратно на свой залезаю шесток,
её отпускаю бежать на восток,
но где ей осилить Атлантику! -
силёнок не хватит, талантику.
Мой лемминг! Смертельная тяжесть воды
навалит - придется солёненько,
и луч одинокой сверхновой звезды
протянется к ней, как соломинка.
Разговор
«Нас гонят от этапа до этапа,
А Польше в руки всё само идёт -
Валенса, Милош, Солидарность, Папа,
у нас же Солженицын, да и тот
Угрюм-Бурчеев и довольно средний
прозаик». - «Нонсенс, просто он последний
романтик». - «Да, но если вычесть “ром”». -
«Ну, ладно, что мы, все-таки, берём?»
Из омута лубянок и бутырок
приятели в коммерческий уют
всплывают, в яркий мир больших бутылок.
«А пробовал ты шведский “Абсолют”,
его я называю “соловьёвка”,
шарахнешь - и софия тут как тут». -
«А всё же затрапезная столовка,
где под столом гуляет поллитровка…
нет, всё-таки, как белая головка,
так западные водки не берут». -
«Прекрасно! ностальгия по сивухе!
А по чему ещё - по стукачам?
по старым шлюхам, разносящим слухи?
по слушанью «Свободы» по ночам?
по жакту? по райкому? по погрому?
в каждой Фразе до блеска натёр бы паркет,
в Главах было бы пусто и много зеркал,
а в Прологе сидел бы старый швейцар,
говорил бы мне «барин» и «ваше-ство»,
говорил бы: «Покеда пакета нет».
И пока бы паркет в Абзацах сверкал,
зеркала, не слишком, но рококо,
отражали бы окна, и в каждом окне,
а вернее, в зеркальном отраженье окна,
над застылой рекой поднимался бы пар
и спешили бы люди в солдатском сукне,
за рекой была бы больница видна,
и письмо получалось бы под Рождество.
И Конец от Начала бы был далеко.
Русская ночь
Пахота похоти. Молотьба
страсти. Шабаш. Перекур на подушке.
Физиология - это вроде ловушки.
«Да, а география - это судьба».
Разлиплись. Теперь заработало время,
чтобы из семени вывелось бремя,
чтобы втемяшилось в новое племя:
пламя на знамени и - в стремена!
Так извергается ночью истомной,
тёмной страстью, никчемной домной,
дымным дыханьем моя страна,
место пустое за соломянем.
То-то я нынче, словоломаньем
словно пустою посудой гремя,
её волочу за собой, как вину мою,
в своё неминуемое неименуемое.
Сыне Божий, помилуй мя.
С детства
Кошмаром арзамасским, нет, московским,
нет, питерским, распластанный ничком,
он думает, но только костным мозгом,
разжиженным от страха мозжечком.
Ребёнку жалко собственного тела,
слезинок, глазок, пальчиков, ногтей.
Он чувствует природу беспредела
природы, зачищающей людей.
Проходят годы. В полном камуфляже
приходит Август кончить старика,
торчали лучи наискось,
но смерклось, исчезло, знать, что-то случилось,
печальное что-то стряслось),
его сквозь себя пропускают колхозы,
пустые поля и дома,
уткнуться, где гнутся над омутом лозы,
где в омуте время и тьма.
Стихи о романе
Знаем эти толстовские штучки:
с бородою, окованной льдом,
из недельной московской отлучки
воротиться в нетопленый дом.
«Затопите камин в кабинете.
Вороному задайте пшена.
Принесите мне рюмку вина.
Разбудите меня на рассвете».
Погляжу на морозный туман
и засяду за длинный роман.
Будет холодно в этом романе,
будут главы кончаться «как вдруг»:
будет кто-то сидеть на диване
и посасывать длинный чубук,
будут ели стоять, угловаты,
как стоят мужики на дворе,
и, как мост, небольшое тире
свяжет две недалекие даты
в эпилоге (когда старики
на кладбище придут у реки).
Достоевский еще молоденек,
только в нём что-то есть, что-то есть.
«Мало денег, - кричит, - мало денег.
Выиграть тысяч бы пять или шесть.
Мы заплатим долги, и в итоге
будет водка, цыгане, икра.
Ах, какая начнется игра!
После старец нам бухнется в ноги
и прочтёт в наших робких сердцах
слово СТРАХ, слово КРАХ, слово ПРАХ.
Грусть-тоска. Пой, Агаша. Пей, Саша.
Хорошо, что под сердцем сосёт...»
Только нас описанье пейзажа
от такого запоя спасёт.
«Красный шар догорал за лесами,
и крепчал, безусловно, мороз,
но овёс на окошке пророс...»
Ничего, мы и сами с усами.
Нас не схимник спасет, нелюдим,
лучше в зеркало мы поглядим.
Я неизменный Карл Иваныч.
Я ваших чад целую на ночь.
Их географии учу.
Порой одышлив и неряшлив,
я вас бужу, в ночи закашляв,
молясь и дуя на свечу.
Конечно, не большая птица,
но я имею, чем гордиться:
я не блудил, не лгал, не крал,
не убивал - помилуй Боже, -
я не убийца, нет, но всё же,
ах, что же ты краснеешь, Карл?
Был в нашем крае некто Шиллер,
он талер у меня зажилил.
Была дуэль. Тюрьма. Побег.
Забыв о Шиллере проклятом,
verfluchtes Fatum - стал солдатом -
сражений дым и гром побед.
Там пели, там «ура» вопили,
под липами там пиво пили,
там клали в пряники имбирь.
А здесь, как печень от цирроза,
разбухли бревна от мороза,
на окнах вечная Сибирь.
Гуляет ветер по подклетям.
На именины вашим детям
я клею домик (ни кола
ты не имеешь, старый комик,
и сам не прочь бы в этот домик).
Прошу, взгляните, Nicolas.
Мы внутрь картона вставим свечку
и осторожно чиркнем спичку,
и окон нежная слюда Холод
Веки и губы смыкаются в лад.
место забвенью.
Ртуть застывает, как страж на посту -
нету развода.
Как выясняется, пустоту
терпит природа,
ибо того, что оставлено тлеть
под глинозёмом,
ни мемуарам не запечатлеть,
ни хромосомам.
Кабы не скрипки, кабы не всхлип
виолончели,
мы бы совсем оскотинились, мы б
осволочели...
Ветер куражится, точно блатной,
тучи мучнисты.
С визгом накручивают одной
ручкой чекисты
страшные мёрзлые грузовики
и патефоны,
чтоб заглушать винтовок хлопки
и плач Персефоны.
Школа № 1
Брюхатый поп широким махом
за труповозкою кадит.
Лепечет скрученный бандит:
«Я не стрелял, клянусь Аллахом».
Вливается в пробои свет,
задерживается на детях, женщинах,
их тряпках, их мозгах, кишечниках.
Он ищет Бога. Бога нет.
Лев Владимирович Лосев (1937-2009) — русский поэт, литературовед, эссеист, сын писателя Владимира Александровича Лифшица. Ниже размещена его беседа с журналистом Виталием Амурским, опубликованная в журнале "Огонек", 1992. №71.Лев Лосев в гостях у Гандлевских, Москва, 1998 г. Фото Г.Ф. Комарова
"ПОЭТ ЕСТЬ ПЕРЕГНОЙ"
Лев, в предисловии к своему первому поэтическому сборнику "Чудесный десант", вышедшему в издательстве "Эрмитаж" (США) в 1985 году, вы отмечаете, что начали писать стихи довольно поздно, в возрасте 37 лет. Цифра "37" роковая в жизни многих русских поэте - чаще всего, как известно, она знаменовала конец пути мастера. В вашем случае все произошло наоборот...
Я бы не придавал слишком большого значения мистике чисел, в частности, мистике возраста. В моем случае здесь все логично. Действительно, в этом возрасте я достиг того состояния, которое на языке популярной психологии сейчас называется "кризисом середины жизни", как говорят психоаналитики, mid life crisis - не знаю, как точно сказать по-русски. В общем, это состояние, через которое проходит каждый человек в тридцать два, тридцать семь, тридцать восемь лет... когда пройдена уже какая-то дистанция, ты оказываешься у какого-то финиша, нужно что-то переоценивать и начинать сначала. Вот весь этот путь я прошел нормальным образом, не будучи стихотворцем...
А что действительно совпало (хотя кто знает, кто управляет нашей судьбой?) - тут было что-то большее, чем простое совпадение: я основательно болел, в возрасте 33-х лет у меня был инфаркт, потом несколько лет выкарабкивался из этого. Это способствовало началу нового пути. Также в этот период жизни я по разным причинам потерял целый ряд близких друзей, присутствие которых для меня было необыкновенно важно. Например, уехал Бродский, вынужден был уехать. С кем-то я раздружился и так далее. И вот в этом неожиданно разряженном воздухе возникли стихи. Воспринимал я их серьезнее, чем сейчас, - как какое-то посланное мне спасительное средство.
- Тем не менее, кажется, вы все же находились в окружении интересных людей, людей высокой культуры...
Было бы точнее считать культурную среду не определенным кругом знакомств, а именно кругом культурной информации, в которую человек погружен. В этом смысле в культурной среде человек может жить где-нибудь посреди тайги или джунглей, независимо от его личных знакомств, связей, семейного происхождения и т.д., потому что средства коммуникации в таком случае - это книги, музыка и т.д. - отнюдь не обязательно люди. Хотя и люди тоже могут быть. Почему я сейчас ударился в это теоретизирование? Потому что одно не заменяет другого. Круг человеческих отношений - это нечто отдельное. Совершенно верно, среди моих друзей были люди высокой культуры в самом прямом смысле слова, люди высокообразованные и творчески активные в разных областях - таким кругом я был щедро наделен по обстоятельствам биографии с детства. Но в первую очередь, что важно было для меня, - поэзия, стихотворчество. Не побоюсь сказать, что именно это всегда составляло главное содержание моей жизни. Для меня было важно жить не просто в культурной среде, а в среде, где рождаются новые русские стихи, новая русская поэзия.
В кризисный период, о котором я говорю, именно это мое ближайшее окружение постепенно рассеялось. Я назвал Бродского, но было еще несколько человек, которых я считаю уникально одаренными, уникальными поэтами моего поколения. Не хочу составлять никаких иерархий - в них я не верю, - назову, например, Михаила Еремина, Евгения Рейна, Владимира Уфлянда, моего ближайшего друга юности Сергея Кулле, ныне покойного. Это была плеяда людей необыкновенного творческого потенциала, и так получилось, что, за исключением только Уфлянда, никого из них поблизости не оказалось. То есть я продолжал знакомиться с их вещами, но это было уже совсем не то, что дает ежедневное общение с поэтами, бесконечные разговоры, когда ты как бы изнутри понимаешь, из какого варева рождаются поэтические тексты. Все вдруг испарилось, пропало и привело к ощущению страшного вакуума, который мне нужно было чем-то заполнить. То, что он начал заполняться моими собственными стихами, не было сознательным решением.
Лев Лосев - псевдоним, выбранный вами как бы по необходимости. Урожденный Лифшиц, вы услышали однажды от отца-писателя: "Двум Лифшицам нет места в одной детской литературе - бери псевдоним". Видимо, сейчас сохранять его нет большой необходимости. Однако, несмотря на то, что вы давно оставили детскую литературу, давно простились с отцом, - вы все-таки не вернулись к своей настоящей фамилии. Это объясняется памятью о нем или, может быть, привычкой? Внутренне вас не заботит наличие в себе двойного "я"?
Совсем нет. Не знаю, почему - это имя приросло ко мне. Если на улице кто-нибудь крикнет: "Лифшиц!" - я вряд ли обернусь. Но если крикнут: "Лосев!" - конечно... Если даже будут иметь в виду покойного Алексея Федоровича Лосева, хотя, кроме этого знаменитого философа, были еще два больших негодника по фамилии Лосев. Один сидел на московском телевидении, а другой на архивах Булгакова. Хотя у меня в Советском Союзе в паспорте оставалось Лифшиц, я привык к тому, что я - Лосев. Для себя я объясняю это тем, что не выдумывал этот псевдоним, его мне дал отец. Мы получаем от отца имя, не спрашивая... вот в чем дело, Нет, двойственности "я" у меня нет. Правда, для всякого человека еврейского происхождения, пишущего под русским псевдонимом, всегда есть щекотливый вопрос: почему ты прячешь свое еврейское происхождение? Но в самих моих текстах широко обсуждается эта сторона моей личности. Так что, видимо, гипотетическое обвинение отпадает.
Читая ваши стихи, нельзя не заметить, что большую роль в них играют - как бы сказать точнее? - предметы, приметы очень конкретного мира. С особым любованием вы нередко описываете, допустим, луковицу, кусок хлеба, свечу и т.п. Материален, как краска на холсте, свет, который падает на объекты вашего внимания. Откуда такое влечение к формам осязаемым? Используя старый добрый термин, - живописности?
Может быть, оттого, что из всех искусств я больше всего люблю живопись. Я не могу себя назвать большим знатоком живописи, но ничто меня так не завораживает, как работа живописцев - старых и новых. Из всех моих жизненных дружб одна из самых драгоценных для меня - дружба с Олегом Целковым. Это, видимо, часть ответа. Другая... это трудно сказать, потому что говорить о собственных сочинениях в смысле их истоков всегда опасно... Но так или иначе, наверное, я воспитан в основном петербургской литературной школой, акмеистической школой. Само по себе это слово не очень удачно, потому что акмеизм - понятие крайне временное. Название "акмеисты" закрепилось за Ахматовой, Мандельштамом, Георгием Ивановым, которые как поэты могут быть с таким же успехом зачислены в одну школу с Пушкиным, Фетом, Анненским, Кузминым. То есть петербургская литературная традиция не оставалась одной и той же, развивалась, но эта традиция, которая по возможности чурается прямого философствования как такового в стихах, которая несколько ограничивает прямые выражения эмоциональности. Для меня это почти вопрос хорошего тона.
- А если говорить о влиянии на ваше творчество обэриутов, Заболоцкого периода "Столбцов "?
Насчет влияния я не знаю. Конечно, мне больше всего хотелось бы сказать, что никаких влияний на мою поэзию не существует. Но это трудно оценить, потому что, если говорить о писании стихов как о работе, то именно в ее разгар ты сам придирчиво следишь за тем, чтобы не оказалось вдруг в твоих строках чужого слова, чужой образности, чужой интонации. Все же, вероятно, влияние Заболоцкого и обэриутов было огромным. Не знаю - на стихи ли мои непосредственно или просто на мое формирование. Был период, когда я просто неустанно ими занимался, раскапывал тексты, переписывал, распространял, и они как-то вошли в мою кровь. Это был довольно ранний период, где-то в середине 50-х годов. Думаю, я был одним из первых в нашем поколении, кто заново открыл Заболоцкого и обэриутов.
Через десять лет то ли я от них ушел, то ли они меня покинули. Я не могу сказать, что они мне стали неинтересны - и сейчас есть стихи Заболоцкого, которые меня бесконечно трогают, которые неисчерпаемы по смыслу, с моей точки зрения, и - если не целые вещи, то какие-то куски у Введенского, и совсем отдельные строки у Хармса тоже... Но все-таки их поэтический мир не может сравниться с поэтическим миром Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой, Бродского, потому даже Хармс и Введенский были люди гениально ограниченные. Так что сейчас говорить о каком-то ученичестве у них мне не хотелось бы.
Вы сказали о том, что занимались их текстами. Действительно, Лев Лосев - это еще и филолог. Эту сторону вашего творчества нельзя обойти. Интересно, не мешает ли вам научный подход к литературе, к поэзии в частности, быть раскрепощенным в собственном стихосложении?
Как принято у нас, американских преподавателей, говорить в таких случаях: "Это очень интересный вопрос". Действительно, он меня интересует больше всех остальных. Начать надо с того, что не существует разграничения между филологией и поэзией. По сути дела - это одно и то же. С моей точки зрения, все наши подлинные поэты были в той или иной степени филологами, если угодно - литературоведами, лингвистами, критиками. Пушкин с его замечательными статьями о литературе, не только о текущей, но и об истории литературы, проникновенно высказывался о языке. Профессиональными филологами были Блок, Белый, Вячеслав Иванов - по сути дела все крупнейшие символисты. Серьезное филологическое образование, пополнявшееся, продолжавшееся всю жизнь, имели Мандельштам и Ахматова; мы можем говорить как о серьезных филологах даже о таких автодидактах, как Цветаева или Бродский.
В чем же все-таки разница: почему в одних случаях пишут "литературоведческое исследование" (то есть работа с архивными материалами, как в случае Ахматовой, или анализ текста Данте, как у Мандельштама), а в других случаях указывают - "стихотворение"? Я утверждаю, что и в первом и во втором варианте первоначальный импульс один и тот же - выразить при помощи слов нечто новое, какое-то чувство, сантимент, знание, информацию - то, что прежде словами этого языка не выражалось. А дальше интуиция подсказывала наиболее эффективный способ этого выражения. В одних случаях это новое можно сказать на языке рациональном, тогда пишется "филологическая статья" или "эссе". В других случаях само это новое не находит рационального выражения, и тогда нужно использовать слова, как писал в "Разговоре о Данте" Мандельштам, не в их непосредственно словарных значениях, а опосредствованно. Если пользоваться терминологией Выготского, словообраз - это и есть поэзия.
В одном из ваших стихотворений есть фраза: "Поэт есть перегной... " Не могли бы вы сказать о том, как возникла такая формулировка, такой образ, что за этим стоит?
С тех пор, как мы поселились в Новой Англии и моя жена стала страстно заниматься огородничеством, я, так сказать, влюбился в компост, в перегной. Руки у меня как-то не лежат заниматься этими делами, но очень люблю наблюдать вегетацию у нас во дворе. Особенно мистическое впечатление на меня производит то, что происходит с перегноем - как из дряни, мусора, отбросов на глазах возникает абсолютно чистая, как пыльца цветов, черная субстанция, дающая новую жизнь. Это, пожалуй, один из самых метафизических процессов, которые нам дано наблюдать воочию. Поэтому метафора "поэт -перегной" (где-то у меня есть: "перегной душ и книг", т.е. культура) - для меня самая высокая метафора любого существования, любой, в том числе творческой, жизни.
Если позволите, я вернусь сейчас к теме "двойственности" которую затронул в вопросе о соотношении вашей фамилии и псевдонима. Правда, в другом аспекте. Цитирую ваши стихи: "Я лягу, глаз расфокусирую. Звезду в окошке раздвою, и вдруг увижу местность сирую, сырую родину свою... "Проблема, так сказать, двойного видения мира кажется мне весьма важной для понимания вашего творчества.
Ну, если упрощать, то это стихотворение как раз о том, что видение должно быть двойным. Кстати, по-моему, никто из читателей и критиков не обращал внимания на то, что это стихотворение рождественское. А может быть, обращали, но не говорили. В момент Рождества Христова, как известно, произошло редкое совмещение двух планет - Сатурна и Юпитера, которые могли выглядеть с Земли как одна новая звезда. Это в общем-то одно из атеистических объяснений евангельских явлений. Но в своем стихотворении, где речь идет, как я отметил, о двойном видении, я хотел в стиле журнала "Наука и жизнь" дать евангельское восприятие бесконечно повторяющегося Рождества. Драматическое и лирическое (важнее лирическое) в поэзии создается в присутствии двух полюсов. Подчас стихи, написанные очень культурными людьми, нестерпимо монотонны. Взять к примеру замечательного филолога Аверинцева. Он недавно стал публиковать свои стихи.
Стихи недурные, очень точно стилизующие какие-то жанры, с выбранными правильно словами. В стихах масса вкуса, культуры и даже искренности, но у них один недостаток - они скучные. Почему? Там нет второго стилистического полюса. Я не собираюсь давать Аверинцеву каких-либо советов, это было бы совершенно неуместно, - но если бы он, как мне представляется, в какой-то изящный плач (не помню, о чем у него там рыдание: о рабе Божьем Алексее?..) вдруг вставил реалию из пошлой советской обыденщины, то тогда, возможно, могло бы что-то возникнуть... Тогда бы появился лиризм. А вот другая крайность. Была такая "барачная поэзия", один из лучших наших поэтов Сапгир имел к ней какое-то отношение, Холин... Вот у Холина, человека талантливого, имеющего прекрасные вещи, - более или менее зарифмованная регистрация пошлости, скуки, грязи, обыденной жизни. Это опять лишено энергии лирической. Своего рода астигматизм необходим поэту.
Сейчас, в так называемые перестроечные времена, многие из тех питерских поэтов, которые стремились сохранить и продолжить традиции русского "Серебряного века", традиции другие - я имею в виду в первую очередь тех, с которыми вы ощущали глубокую духовную связь, - из полулегального положения перешли в положение вполне комфортабельное. То есть в данном случае речь идет о возможности публиковаться, выступать на родине, за границей. Произошел своего рода процесс слияния питерской литературы с литературой русской и мировой в широком смысле. Не думаете ли вы, что таким образом круг питерской литературы 60-х - начала 70-х годов как бы замкнулся, завершился?
Я не думаю, что это вчерашний день, закрытая страница. Если говорить о публикации стихов, написанных двадцать - двадцать пять лет назад, то это вполне полезное культурное дело. Но, знаете, это ведь ничего не меняет. Не спасает. Не отменяет трагедии всего поколения, потому что жизнь, молодость этих людей уничтожена, унижена и никакими поздними признаниями, публикациями ее не восстановить.
- Ваше отношение к переменам в Советском Союзе, в современной Европе?
Как и все, я с большим интересом слежу за событиями и, как все, не представляю, к чему все это приведет. Бродский, допустим, считает, что единственная историческая проблема человечества - это перенаселенность. В широком смысле он, видимо, абсолютно прав. При таком подходе к вещам все прогнозы могут быть только самые пессимистические - отдельные политические перемены в разных частях земного шара по существу ничего не меняют. Но я бы хотел несколько более оптимистически на это ответить. Мне кажется, здесь есть движение в сторону необыкновенно милой и дорогой мне политической утопии. Еще в студенческие годы с моим другом Сергеем Кулле, о котором я уже говорил, мы мечтали (опять-таки в чисто утопических терминах) о том, что вся Европа распадется на части: Германия опять будет состоять из множества княжеств, Франция - из Прованса, Бургундии, Лотарингии... Россия - из княжеств Московского, Смоленского, ханства Казанского и т.д. И, как ни странно, появился исторический шанс для осуществления этого утопического мечтания.
Сентябрь 1990 г. - июль 1991 г.
Поэт Лев Лосев
Дебютировав в 37 лет, в возрасте, что для других поэтов стал роковым, Лосев избежал свойственного юным дарованиям «страха влияния». Он не знал его потому, что считал влияние культурой, ценил преемственность и не видел греха в книжной поэзии. Среди чужих слов его музе было так же вольготно, как другим среди облаков и березок. Войдя в поэзию без скандала и по своим правилам, Лосев сразу начал со взрослых стихов и оказался ни на кого не похожим, включая - сознательный выбор! - Бродского.
Друзья и современники, они смотрели на мир одинаково, но писали о нем по-разному. Играя в классиков, Лосев отводил себе место Вяземского при Пушкине. Просвещенный консерватор, строгий наблюдатель нравов, немного стародум, в равной мере наделенный тонким юмором, ироничной проницательностью и скептической любовью к родине. На последней необходимо настоять, потому что Лосев был отнюдь не безразличен к политике. Разделяя взгляды вермонтского соседа, он, как и Солженицын, мечтал увидеть Россию «обустроенной» по новоанглийской мерке: локальная, добрососедская демократия, а главное - чтобы хоть что-нибудь росло.
Идеал Лосева без зависти пропускал романтический XIX век, не говоря уже об истерическом ХХ, чтобы найти себе образец в ясном небе Просвещения. Законы меняют людей, остроумие оправдывает стихи, и каждый возделывает свой садик.
У Лосевых он был полон цветов и съедобной зелени. Однажды за ней пришел перебравшийся через ручей медведь, но и он не разрушил идиллии. Составленная из умных книг и верных друзей, жизнь Лосева была красивой и достойной. Стихи в ней занимали только свое место, но читал он их всегда стоя.
Справка
Лев Лосев родился в 1937 году в Ленинграде, эмигрировал в Соединенные Штаты в 1976 году. За границей выпустил несколько книг стихов, опубликовал исследования о «Слове о полку Игореве», о творчестве Чехова, Ахматовой, Солженицына, Бродского, с которым он тесно дружил. Почти тридцать лет он преподавал русскую литературу в престижном Дартмутском колледже, штат Нью-Гемпшир.
6 мая в Нью-Гемпшире на 72-м году жизни скончался поэт, писатель и литературовед Лев Лосев. ПАМЯТИ льва ЛОСЕВА Те, кто знает это имя, знают и то, что это огромная потеря для русской культуры. Сам - удивительный и тонкий поэт, последнее десятилетие своей жизни он самоотверженно посвятил памяти своего великого друга - Иосифа Бродского. Его комментарии к текстам И.Б. - это наслаждение и счастье погружения в культуру, которая нас, увы, почти не коснулась.Книга в серии ЖЗЛ - памятник не только Бродскому, но и самому Льву Лосеву. (Отдельный урок - дистанция, которую удержал в этой книге автор, нигде не позволив себе похлопать гения по плечу и хоть чуть-чуть выпятить свою персону. Близкий друг Бродского, которого тот считал к тому же одним из своих учителей, Лосев НИ РАЗУ НЕ УПОМЯНУЛ ОБ ЭТОМ).“Время - честный человек”; имя Льва Лосева непременно займет правильное место в сознании читающей и думающей России, но сегодня это как-то не слишком утешает. Очень горько. Виктор Шендерович “Лев Лосев - один из самых умных и самых добрых, каких мне пришлось увидеть в жизни людей. Впервые познакомились в приемной Ленинградского университета, куда поступали в наши 18 лет. Его приняли, а меня нет. Встречались часто в литературных компаниях, поэтических.Он писал стихи с юности. Об этом мало кто знал. А работал в детском журнале “Костер”, и, между прочим, ему удавалось протащить туда стихи своих друзей. Дружил он с замечательными поэтами, с тем же Иосифом Бродским, Евгением Рейном, Михаилом Еременым, Уфляндом и многими, многими другими.Может быть, главная его любовь в жизни, кроме жены Нины и детей, это русская поэзия. Стихи его не похожи на другие: угловатые, острые, остроумные, и в то же время в них есть подлинное чувство.Это очень печальная новость. Лев Лосев - замечательный человек. И это еще важней, по-моему, и куда больше значит, чем то, что он еще и поэт настоящий. Когда теряешь дорого человека, то думаешь прежде всего об - See more at:
Он говорил: «А это базилик».
И с грядки на английскую тарелку -
румяную редиску, лука стрелку,
и пес вихлялся, высунув язык.
Он по-простому звал меня - Алеха.
«Давай еще, по-русски, под пейзаж».
Нам стало хорошо. Нам стало плохо.
Залив был Финский. Это значит наш.
О, родина, с великой буквы Р,
вернее, С, вернее, Еръ несносный,
бессменный воздух наш орденоносный
и почва - инвалид и кавалер.
Простые имена - Упырь, Редедя,
союз чека, быка и мужика,
лес имени товарища Медведя,
луг имени товарища Жука.
В Сибири ястреб уронил слезу.
В Москве взошла на кафедру былинка.
Ругнулись сверху. Пукнули внизу.
Задребезжал фарфор, и вышел Глинка.
Конь-Пушкин, закусивший удила,
сей китоврас, восславивший свободу.
Давали воблу - тысяча народу.
Давали «Сильву». Дуська не дала.
И родина пошла в тартарары.
Теперь там холод, грязь и комары.
Пес умер, да и друг уже не тот.
В дом кто-то новый въехал торопливо.
И ничего, конечно, не растет
На грядке возле бывшего залива.
* * *
…в «Костре» работал. В этом тусклом месте,
вдали от гонки и передовиц,
я встретил сто, а может быть, и двести
прозрачных юношей, невзрачнейших девиц.
Простуженно протискиваясь в дверь,
они, не без нахального кокетства,
мне говорили: «Вот вам пара текстов».
Я в их глазах редактор был и зверь.
Прикрытые немыслимым рваньем,
они о тексте, как учил их Лотман,
судили как о чем-то очень плотном,
как о бетоне с арматурой в нем.
Все это были рыбки на меху
бессмыслицы, помноженной на вялость,
но мне порою эту чепуху
и вправду напечатать удавалось.
Стоял мороз. В Таврическом саду
закат был желт и снег под ним был розов.
О чем они болтали на ходу,
подслушивал недремлющий Морозов,
тот самый, Павлик, сотворивший зло.
С фанерного портрета пионера
от холода оттрескалась фанера,
но было им тепло.
И время шло.
И подходило первое число.
И секретарь выписывал червонец.
И время шло, ни с кем не церемонясь,
и всех оно по кочкам разнесло.
Те в лагерном бараке чифирят,
те в Бронксе с тараканами воюют,
те в психбольнице кычат и кукуют,
и с обшлага сгоняют чертенят.
Дурные рифмы. Краденые шутки.
Накушались. Спасибо. Как бобы
шевелятся холодные в желудке.
Смеркается. Пора домой. Журнал
московский, что ли, взять как веронал.
Там олух размечтался о былом,
когда ходили наши напролом
и сокрушали нечисть помелом,
а эмигранта отдаленный предок
деревню одарял полуведром.
Крути, как хочешь, русский палиндром
барин и раб, читай хоть так, хоть эдак,
не может раб существовать без бар.
Сегодня стороной обходим бар…
Там хорошо. Там стелется, слоист,
сигарный дым. Но там сидит славист.
Опасно. До того опять допьюсь,
что перед ним начну метать свой бисер
и от коллеги я опять добьюсь,
чтоб он опять в ответ мне пошлость…
«Ирония не нужно казаку,
you sure could use some domestication*,
недаром в вашем русском языку
такого слова нет - sophistication»**.
Есть слово «истина». Есть слово «воля».
Есть из трех букв - «уют». И «хамство» есть.
Как хорошо в ночи без алкоголя
слова, что невозможно перевесть,
бредя, пространству бормотать пустому.
На слове «падло» мы подходим к дому.
Дверь за собой плотней прикрыть, дабы
в дом не прокрались духи перекрестков.
В разношенные шлепанцы стопы
вставляй, поэт, пять скрюченных отростков.
Еще проверь цепочку на двери.
Приветом обменяйся с Пенелопой.
Вздохни. В глубины логова прошлепай.
И свет включи. И вздрогни. И замри
…А это что еще такое?
А это - зеркало, такое стеклецо,
чтоб увидать со щеткой за щекою
судьбы перемещенное лицо.
* * *
«Извини, что украла», - говорю я воровке.
«Обязуюсь не говорить о веревке», -
говорю палачу.
Вот, подванивая, низколобая про*****
Канта мне комментирует и Нагорную
проповедь.
Я молчу.
Чтоб взамен этой ржави, полей в клопоморе
вновь бы Волга катилась в Каспийское море,
вновь бы лошади ели овес,
чтоб над родиной облако славы лучилось,
чтоб хоть что-нибудь вышло бы, получилось.
А язык не отсохнет авось.
1985-1987
* * *
«Понимаю - ярмо, голодуха,
тыщу лет демократии нет,
но худого российского духа
не терплю», - говорил мне поэт.
«Эти дождички, эти березы,
эти охи по части могил», -
и поэт с выраженьем угрозы
свои тонкие губы кривил.
И еще он сказал, распаляясь:
«Не люблю этих пьяных ночей,
покаянную искренность пьяниц,
достоевский надрыв стукачей,
эту водочку, эти грибочки,
этих девочек, эти грешки
и под утро заместо примочки
водянистые Блока стишки;
наших бардов картонные копья
и актерскую их хрипоту,
наших ямбов пустых плоскостопье
и хореев худых хромоту;
оскорбительны наши святыни,
все рассчитаны на дурака,
и живительной чистой латыни
мимо нас протекала река.
Вот уж правда - страна негодяев:
и клозета приличного нет», -
сумасшедший, почти как Чаадаев,
так внезапно закончил поэт.
Но гибчайшею русскою речью
что-то главное он огибал
и глядел, словно прямо в заречье,
где архангел с трубой погибал.
С.К.
И наконец остановка «Кладбище».
Нищий, надувшийся, словно клопище,
в куртке-москвичке сидит у ворот.
Денег даю ему - он не берет.
Как же, твержу, мне поставлен в аллейке
памятник в виде стола и скамейки,
с кружкой, поллитрой, вкрутую яйцом,
следом за дедом моим и отцом.
Слушай, мы оба с тобой обнищали,
оба вернуться сюда обещали,
ты уж по списку проверь, я же ваш,
ты уж, пожалуйста, ты уж уважь.
Нет, говорит, тебе места в аллейке,
нету оградки, бетонной бадейки,
фото в овале, сирени куста,
столбика нету и нету креста.
Словно я мистер какой-нибудь Твистер,
не подпускает на пушечный выстрел,
под козырек, издеваясь, берет,
что ни даю - ничего не берет.
* you sure could use some domestication - «уж вам бы пошло на пользу малость дрессировки» (англ.).
** sophistication - очень приблизительно: «изысканность» (англ.).
Юрий Безелянский
Все знают Иосифа Бродского. Но мало кто — Льва Лосева, хотя он замечательный поэт. Оба — Бродский и Лосев — уехали и работали в Америке. Но у одного была «судьба» (травля, суд), а у другого все состоялось относительно спокойно, без «омута лубянок и бутырок» (лосевская строка). Весною 2009 года Льва Лосева не стало. Вспомним его с благодарностью за то, что он был.
Лев Лосев — поэт для интеллигенции, для интеллигентных разговоров, споров и причитаний, у него в венах и артериях текла не кровь, а литература, русская словесность. Он существовал исключительно в контексте культуры. Отсюда вся его поэзия — сплошной ассоциативный ряд, полуцитаты, полунамеки, перелазы, некий карнавал эрудиции. Бенгальский огонь интеллекта. Услаждение ума. Пир души. Именины сердца. С такими людьми, как Лосев, никогда не бывает скучно.
Лев Лосев родился 15 июня 1937 года в Ленинграде. Сочинять начал рано.
«В молодые годы я носил имя Лев Лившиц. Но поскольку в те же годы я начал работать в детской литературе, мой отец, поэт и детский писатель Владимир Лившиц, сказал мне: «Двум Лившицам нет места в одной детской литературе — бери псевдоним». — «Вот ты и придумай», — сказал я. «Лосев!» — с бухты-барахты сказал отец».
И вот — поэт Лев Лосев. Звучит лучше, чем поэт Лившиц, но возникла некая раздвоенность души: на еврейскую и русскую:
Вы Лосев? Нет, скорее, Лившиц,
мудак, влюблявшийся в отличниц,
в очаровательных зануд
с чернильным пятнышком вот тут.
Ненормативная лексика? Лосев любил эти пряные добавки. А вначале он был детским писателем и долго работал в детской литературе, в частности, в журнале «Костер». До этого была школа. Неприметный и затюканный школьник. Один из критиков сравнивал его с набоковским Лужиным. Окончил факультет журналистики ЛГУ, работал на Сахалине...
«Я начал писать стихи достаточно поздно, лет в 37. В молодости же я только баловался сочинительством, и одной из причин, которая отбила к нему всю охоту, был тот факт, что самым сокрушительным критическим ударом в адрес моих стихов было обвинение в литературности. Литературность, вторичность — все это было тогда сомнительным и вызывало подозрения. Лучшим собранием поэтов в ту пору в Ленинграде считался кружок при Горном институте, куда входили Британишский, Горбовский, Кушнер и другие. Эти поэты казались лучшими, поскольку их поэзия считалась первичной. Действительно, они много путешествовали по стране, писали про рюкзаки, пот и комаров, про провинциальные гостиницы и прочие первичные реалии. Им и отдавалось предпочтение» — так рассказывал Лев Лосев. Он же был противником «первичных реалий» и все ходил по книжным тропам и наконец нашел свою неповторимую лосевскую интонацию. Отталкиваясь от классической русской поэзии, он создал свои блистательные повторы, сумев повернуть хрестоматийные строки так, что они заиграли новыми гранями и смыслом.
Вот вывернутые наизнанку строки: «Любви, надежды, черта в стуле/ недолго тешил нас уют./ Какие книги издаются в Туле!/ В Америке таких не издают!..»
Прозвучала «Америка». Именно в Америке свой псевдоним Лосев поэт сделал паспортной фамилией и с нескрываемой иронией и горечью писал:
Вы русский? Нет, я вирус СПИДа,
как чашка, жизнь моя разбита,
я пьянь на выходных ролях,
я просто вырос в тех краях...
...Вы человек? Нет, я осколок,
голландской печки черепок —
запруда, мельница, проселок...
а что там дальше, знает Б-г. Критик Владимир Уфлянд вспоминал, что, если Бродский уезжал в Америку шумно, то Лосев весьма тихо. При этом «скромно и полутаинственно уезжавший с женой Ниной и двумя детьми Леша Лосев даже с бородой больше походил на советского пионера, чем на американского. Я уверен, что он ехал не за счастьем. Такие люди достаточно начитанны, чтобы знать, что счастье только там, где нас нет. Но в Америке можно работать, не опасаясь заработать срок. Высочайший литературный профессионализм и универсальные знания доставляли Лосеву в России несравнимо меньше неприятностей, чем те же достоинства доставляли его другу Иосифу Бродскому. Лосев артистично умел их скрывать. Недаром через несколько лет он написал книгу «Эзопов язык в новейшей русской литературе». На американском континенте появился сначала профессор славистики Дартмутского университета, блестящий литературовед. Помедлил несколько лет и выступил в качестве маэстро, виртуоза русского насыщенного поэтического текста».
Критик Владимир Уфлянд вспоминал, что, если Бродский уезжал в Америку шумно, то Лосев весьма тихо. При этом «скромно и полутаинственно уезжавший с женой Ниной и двумя детьми Леша Лосев даже с бородой больше походил на советского пионера, чем на американского. Я уверен, что он ехал не за счастьем. Такие люди достаточно начитанны, чтобы знать, что счастье только там, где нас нет. Но в Америке можно работать, не опасаясь заработать срок. Высочайший литературный профессионализм и универсальные знания доставляли Лосеву в России несравнимо меньше неприятностей, чем те же достоинства доставляли его другу Иосифу Бродскому. Лосев артистично умел их скрывать. Недаром через несколько лет он написал книгу «Эзопов язык в новейшей русской литературе». На американском континенте появился сначала профессор славистики Дартмутского университета, блестящий литературовед. Помедлил несколько лет и выступил в качестве маэстро, виртуоза русского насыщенного поэтического текста».
Как заметил Борис Парамонов, Лосев нуждался не в свободе слова, а в доступности печатного станка. На Западе сразу вышли два его сборника — «Чудесный десант» (1985) и «Тайный советник» (1987). И далее продолжал удивлять читателей своими «забавными штучками». И наконец в 1997 году на родине, в Питере, вышел первый его поэтический сборник «Новые сведения о Карле и Кларе».
Что делать — дурная эпоха.
В почете палач и пройдоха.
Хорошего — только война.
Что делать, такая эпоха
досталась, дурная эпоха.
Другая пока не видна.
И что делать поэту в эту дурную эпоху? «О муза! будь доброй к поэту,/ пускай он гульнет по буфету,/ пускай он нарежется в дым,/ дай хрену ему к осетрине,/ дай столик поближе к витрине,/ чтоб желтым зажегся в графине/ закат над его заливным».
Тема России и эпохи у Лосева звучит с горькой усмешкой: «“Понимаю — ярмо, голодуха,/ тыщу лет демократии нет,/ но худого российского духа/ не терплю”, — говорил мне поэт».
«Вот уж правда — страна негодяев:
и клозета приличного нет», —
сумасшедший, почти как Чаадаев,
так внезапно закончил поэт.
Но гибчайшею русскою речью
что-то главное он огибал
и глядел словно прямо в заречье,
где архангел с трубой погибал.
«О, родина с великой буквы Р... бессменный воздух наш орденоносный...» И ощущение печального финала:
И родина пошла в тартарары.
Теперь там холод, грязь и комары.
Пес умер, да и друг уже не тот.
В дом кто-то новый въехал торопливо.
И ничего, конечно, не растет
на грядке возле бывшего залива.
В одном из своих последних интервью («Огонек», октябрь 2008 года) Лев Лосев поведал, какой ему видится Россия из США, — и весьма любопытен этот взгляд со стороны: «На моей американской памяти случился серьезный сдвиг — место России в сознании Америки значительно уменьшилось, отодвинулось от центра и, что ли, провинциализировалось. Я приехал в разгар холодной войны, Россия была действующим лицом номер один, а сейчас... она стала не то что маргинальной, но — одной из многих. Не такой страшной, как Иран, не вызывающей такого почтения, как Китай, не такой безумной, как Северная Корея... Так — что-то вроде Бразилии; даже Венесуэла вследствие очевидной ошалелости Чавеса вызывает большее любопытство. Что касается моего ощущения от нее — оно странным образом совпадает с чувствами Годунова-Чердынцева, который листает советскую прессу и удивляется, как все там, на Родине, стало серо, малоинтересно. Было так празднично, подумайте! Действительно, сравнить Россию 1920-1930-х с Россией начала века, когда Куприн считался писателем второго ряда... в то время как в Штатах был сверхпопулярен проигрывающий ему по всем параметрам Джек Лондон... И вдруг — страшная серость, полное падение, непонятно, куда все делось, не в эмиграцию же уехало... Несвобода быстро ведет в провинцию духа, на окраины мира; сегодня в России, насколько я могу судить, все усугубляется тем, что страна как бы зависла. Вперед не пустили, назад страшно и не хочется — происходит топтание в пустоте, занятие бесперспективное».
Лосев критиковал русскую несвободу, но продолжал восхищаться русской культурой.
Далеко, в стране Негодяев
и неясных, но страстных знаков,
жили-были Шестов, Бердяев,
Розанов, Гершензон и Булгаков...
«А Бурлюк гулял по столице,/ как утюг, и с брюквой в петлице». «А за столиком, рядом с эсером,/ Мандельштам волховал над эклером». «Гранатометчик Лева Лившиц» — так назвал себя в одном из стихотворений Лев Лосев — с удовольствием преподавал в Америке русскую литературу. И когда читал в сочинениях молодых американцев: «Тургенев любит писать роман «Отцы с ребенками», — только улыбался в бороду. Он сам обожал юмор с переворотами. Поэзия Лосева вообще насыщена каламбурами, перифразами, афоризмами и перелицовкой старых поэтических одежд в новые.
Приведем такие строки: «Как длятся минуты, как бешено мчатся года»... «Пришла суббота, даже не напился»... «Края, где календарь без января»... «Места заполнены, как карточки лото,/ и каждый пассажир похож на что-то»...
И страшный памятник, не медный, а бронзовый:
На рассвете леденеет
бронзовый полугрузин,
злая тень его длиннеет,
медный конь под ним бледнеет.
Зри! он пальцем погрозил.
Таков Лев Лосев. Его сознание было погружено в контекст культуры, где он совершал свои версификаторские прыжки и ужимки, как уже отмечал, забавные штучки. «Я возьму свой паспорт еврейский./ Сяду я в самолет корейский./ Осеню себя знаком креста —/ и с размаху в родные места!» «Вооружившись бубликом и Фетом»?.. Да, он приезжал в Россию. С удивлением озирался по сторонам. С печалью улавливал тенденцию. И снова уезжал в Америку, и грезил:
Когда состарюсь, я на старый юг
уеду, если пенсия позволит.
У моря над тарелкой макарон
дней скоротать остаток по-латински,
слезою увлажняя окоем,
как Бродский, как, скорее, Баратынский.
Когда последний покидал Марсель,
как пар пыхтел и как пилась марсала,
..................
как мысль плясала, как перо писало,
как в стих вливался моря мерный шум,
как в нем синела дальняя дорога,
как не входило в восхищенный ум,
как оставалось жить уже немного...
Лев Владимирович Лившиц-Лосев долго болел...
Иосиф Бродский умер 27 января 1996 года в возрасте 55 лет. Евгений Баратынский покинул белый свет 29 июня 1844 года в 44 года. А Лев Лосев скончался в мае 2009 года, немного не дотянув до 72 лет.
Лез по книгам. Рухнул. Не долез.
Книги — слишком шаткие ступени.
Одним книжником на земле стало меньше. Но, как утверждал Лев Лосев, «текст — это жизнь». А тексты остались. Значит, осталась и продолжает пульсировать мысль поэта, шелестеть его поэзия, резвиться его живые штучки.
Лев Владимирович Лосев родился и вырос в Ленинграде, в семье писателя Владимира Александровича Лифшица. Именно отец, детский писатель и поэт придумывает однажды сыну псевдоним «Лосев», который впоследствии, после переезда на запад становится его официальным, паспортным именем.
Окончив факультет журналистики Ленинградского Государственного Университета, молодой журналист Лосев отправляется на Сахалин, где работает журналистом в местной газете.
Вернувшись с Дальнего Востока, Лосев становится редактором во всесоюзном детском журнале «Костер».
Одновременно пишет стихи, пьесы и рассказы для детей.
В 1976 году Лев Лосев переезжает в США, где работает наборщиком-корректором в издательстве «Ардис». Но карьера наборщика не может удовлетворить полного литературных идей и замыслов Лосева.
Уже к 1979 году он заканчивает аспирантуру Мичиганского университета и преподает русскую литературу в Дартмутском колледже на севере Новой Англии, в штате Нью-Гэмпшир.
В эти американские годы Лев Лосев много пишет и издается в эмигрантских русскоязычных изданиях. Статьи, стихи и очерки Лосева сделали его известным в американских литературных кругах. В России же его произведения стали издаваться лишь начиная с 1988 года.
Наибольший интерес вызвала у читателей его книга об эзоповом языке в литературе советского периода, которая когда-то появилась на свет как тема его литературной диссертации.
Лучшие дня
Примечательна история написания Львом Лосевым биографии Иосифа Бродского, другом которого он являлся при жизни поэта. Зная о нежелании Бродского публиковать собственную биографию, Лев Лосев все-таки берется написать биографию друга спустя десять лет после его смерти. Оказавшись в очень сложном положении, нарушая волю покойного друга (их дружба длилась более тридцати лет), Лев Лосев, тем не менее, пишет книгу о Бродском. Пишет, подменив собственно биографические подробности жизни Бродского на анализ его стихов. Таким образом, оставшись верным дружбе, Лев Лосев навлекает на себя литературных критиков, недоумевающих по поводу отсутствия собственно подробностей жизни поэта в биографической книге. Появляется даже негласный, устный подзаголовок книги Лосева: «Знаю, но не скажу».
На протяжении многих лет Лев Лосев – сотрудник Русской службы радиостанции «Голос Америки», ведущий «Литературного дневника» на радио. Его очерки о новых американских книгах были одной из самых популярных радиорубрик.
Автор многих книг, писатель и литературовед, профессор, лауреат премии "Северная Пальмира" (1996), Лев Лосев скончался на семьдесят втором году жизни после продолжительной болезни в Нью-Гэмпшире 6 мая 2009 года.
Книги Льва Лосева
Чудесный десант. - Tenafly, N.J.: Эрмитаж, 1985.
Тайный советник. - Tenafly, N.J.: Эрмитаж, 1987.
Новые сведения о Карле и Кларе: Третья книга стихотворений. - СПб.: Пушкинский фонд, 1996.
Послесловие: Книга стихов. - СПб.: Пушкинский фонд, 1998..
Стихотворения из четырех книг. - СПб.: Пушкинский фонд, 1999.
Sisyphus redux: Пятая книга стихотворений. - СПб.: Пушкинский фонд, 2000.
Собранное: Стихи. Проза. - Екатеринбург: У-Фактория, 2000.
Как я сказал: Шестая книга стихотворений. - СПб.: Пушкинский фонд, 2005..
Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. Серия ЖЗЛ. - М.: Мол. гвардия
Лев Лосев - великий поэт.
О.В.
16.05.2009 02:56:28
Лев Лосев пока не известный в России, как он того заслуживает, поэт. Он выше популярности, он настоящий, "прямой" поэт, который не отвлекался на суету.Загадочный поэт. Как Аненнский, как Фет, но Лосев! Святой человек. До обидного мало публиковался в Росси... Он нужен, очень нужен!"Пока он искал Бога, люди искали его" - это о Л.Л.
Его скромность, "отсутствие героя", да не даст людям не разглядеть его, не понять, что он великий русский поэт.